Разные дисциплины иногда отличаются даже в том, как называют свои полевые материалы. Из-за этого возникают проблемы, требующие обсуждения. Например, так бывает в работе с цифровыми материалами: источники, которые являются архивами для историков, оказываются предметом наблюдения для антропологов. В случае междисциплинарной работы это порождает конфликты и конкуренцию дисциплин. Они часто замалчиваются, и по тексту работы сложно понять, какая традиция становится основной.
В рамках семинара Research&Write участники обсудили эти сложности в двух ракурсах: ориентированном на общие проблемы (определение поля в контексте дисциплины) и частные случаи несостыковок (этика, определения «данных», возможности сотрудничества дисциплин).
Участники дискуссии:
Дарья Хлевнюк, социолог, научный сотрудник Центра исследований современной культуры ИГИТИ НИУ ВШЭАлексей Титков, социолог, географ, преподаватель МВШСЭН и РАНХиГС
Екатерина Кулиничева, исследователь моды, журналист, преподаватель МВШСЭН
Артём Кравченко, историк ИЭА РАН, исследователь Лаборатории публичной истории, преподаватель МВШСЭН
Полина Колозариди, интернет-исследователь, преподаватель ВШЭ, куратор публичной программы библиотеки Шанинки
Колозариди: Сегодня мы решили поговорить о том, что такое источник, поле или материал.
Я предлагаю каждому из участников изобразить, как для вас устроена эмпирическая часть вашего исследования, что такое для вас источник, данные. Мы идем куда-то, изучаем нечто, а потом превращаем это в то, что называется “данные”. Как выглядит этот процесс в вашем направлении исследований?
Кулиничева: Я представляю его так: есть исследователь, который хочет что-то исследовать. Сперва надо понять, что за ответы ты хочешь получить ― приблизительно. Для этого вы делаете некоторую предварительную работу. С одной стороны, это, конечно, чревато тем, что вы придете в поле с предзаданными вопросами и можете пытаться находить на них предзаданные ответы. Это риск, который нужно принимать, и мне кажется, если вы его осознаете, то можете пытаться его контролировать. Но я из тех, кто считает, что к материалу надо задавать какие-то вопросы, потому что сам он тебе ничего не расскажет.
Как я составляю вопросы? Сейчас я работаю в основном как исследователь моды и спортивного дизайна, само по себе исследование моды и костюма очень междисциплинарно. Но по своей подготовке я искусствовед. Для меня процесс составления вопросов может выглядеть по-разному.
Например, составить вопросы очень помогает то, что обычно называют “теоретической рамкой” ― то, на какие теории и концепции вы опираетесь. Но тут надо быть осторожными. С моей точки зрения чьи-то теории ― это то, что отлично помогает формулировать новые или неожиданные исследовательские вопросы, даже когда речь идет об известном материале. Но шорами и кривыми зеркалами они становиться не должны. Часто влиятельные теории или концепции слишком подчиняют себе работу исследователя, так, что он превращается практически в проповедника. Например, люди цитируют Ролана Барта или Жана Бодрийяра, потом добавляют какой-то эмпирический материал, не факт, что хорошо собранный (часто ― не очень хорошо), который вроде бы эти теории хорошо иллюстрирует, сшивают все это белыми нитками, и получается как бы исследование, которое вроде бы подходит по формальным критериям, а по фактическим ― есть вопрос, что это на самом деле такое. Иногда не очень понятно, зачем нам тут Барт, кроме как ради выполнения формальных требований процитировать кого-то очень авторитетного. В других случаях речь на самом деле не идет о приращении знания о каком-то явлении или объекте, а о том, что человек иллюстрирует чью-то теорию теми примерами, которые славно в неё укладываются, и отбрасывает то, что не укладывается. Это тоже полезное упражнение, но оно, на мой взгляд, хорошо для преподавания, чтобы объяснить студентам что-то. А при проведении исследований такой подход может сослужить дурную службу.
Для меня, повторюсь, теоретическая рамка ― это то, что помогает задавать вопросы. Такая удочка, инструмент, который помогает решить задачу. Есть гендерные исследования ― вы можете поставить вопрос, почему не было знаменитых женщин-художников, или почему их мало? И пойдете искать ответ не на вопрос “как выглядело искусство Голландии в 15 веке”, а почему женщинам было сложнее, чем не женщинам.
Дальше. Вы составили себе понимание, что вы ищете в этом поле. Потом вы можете пойти к источникам, если занимаетесь историей какого-то вопроса. Вы идете в библиотеку, ищете в архивах, смотрите в самых неожиданных местах. Когда я делала свое исследование об истории производства спортивной обуви в СССР, то одним из самых ценных полезных источников оказалась методичка для милицейских следователей, которую я нашла довольно случайно.
У полиций и милиций многих стран сформировалось наблюдение, что люди, нарушающие разные нормы и законы, часто оставляют на месте преступления отпечатки разной спортивной обуви. У советской милиции такая статистика говорила, что чаще всего на месте преступления оставляли следы от обуви adidas. Они пошли на фабрику, изучили модели, которые выпускали в СССР и составили методичку. Она помогала определить по куску отпечатка спортивной обуви, во-первых, размер ноги и, возможно, модель ― это должно было помочь определить подозреваемого. И это один из самых любопытных источников на тему, что же за обувь производилась на московской фабрике adidas, потому что самой фабрики давно нет, и судьба её архива неизвестна.
Соответственно, вы можете пойти в поле №1― архив или библиотеку. Если вы делаете исследование другого типа, работаете с практиками живых людей (мы очень часто лезем на эту полянку в исследованиях моды), то вы идете к людям и, например, берете интервью, делаете наблюдения. И это “поле” в классическом понимании термина.
Пока идет процесс сбора данных, твои вопросы меняются и уточняются. Это нормально. Бывает, что в процессе понимаешь, что нужна немного другая “удочка” или “наживка”.
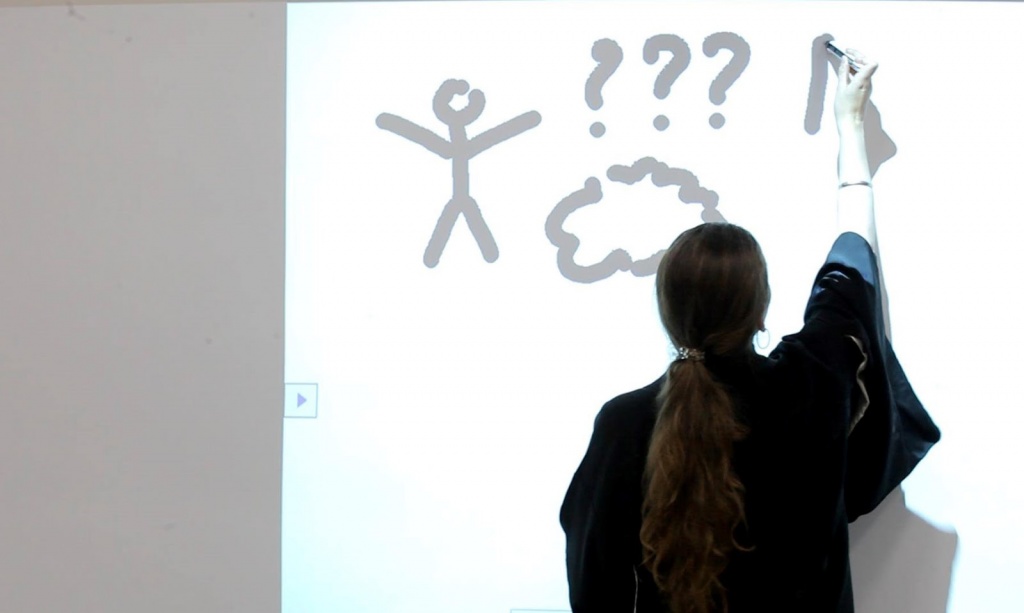
Колозариди: А потом? Вот найдено нечто в архивах и интервью. Потом это становится основанием для высказывания?
Кулиничева: В принципе, да. Есть еще важная стадия -- представление результатов исследования. Мне кажется, многое зависит от того, в какой форме это необходимо представить. Если это академическая работа, то требования к тексту одни, если это популярный текст ― другие. В частности, если мы говорим про источники, то в академическом тексте есть ссылки и справочный аппарат. В популярных и научно-популярных текстах ссылок обычно нет. Или мы делаем лекцию, популярную лекцию, курс в университете.
Если в результате нужно получить, например, отчет по гранту ― это особый жанровый документ. Там ты будешь описывать то, о чем, скорее всего, не станешь говорить ни в академической публикации, ни тем более в популярной.
Колозариди: Кстати, отлично, что у нас появился еще один вопрос ― про формат финальной работы. Штука самоочевидная, но кажется важным, что мы стали про нее говорить.
Титков: Как я понимаю, цели круглого стола, во-первых, объяснить, что такое поле, материал и источник; и во-вторых,подумать, насколько эти понятия разные для разных дисциплин.
У меня два оправдания, почему я имею право говорить об этих сюжетах.
Первое ― у меня все сложно с дисциплинарной принадлежностью. Кандидат географических наук, но в разное время был примерно как колобок из сказки ― прикатился в политическую науку, потом социологию, на какое-то время к культурным антропологам. Каждый раз при таком переходе я сначала с трудом понимал: кто эти люди, о чем они говорят, что это такое? Подозреваю, что у других со мной были такие же сложности возникают. Получается, что шишек, набитых при переводе из дисциплины с дисциплину, у меня, кажется, намного большего среднего.
Второе.Собственных полевых работ у меня сейчас мало, зато есть специализация намного более вредная ― научный руководитель курсовых и дипломных, который объясняет другим, как делать исследование.
Теперь моя схема. Первое: есть “я ― исследователь/исследовательница”. Второе сейчас нарисую.

Есть у социологов известное выражение “железная клетка”. Есть формальные правила письма, которые зачем-то нужно соблюдать. Давайте спросим: зачем кроме понятной реальности источника, материала и поля, нужна еще и странная реальность формальных требований к академическому тексту?
Ключевой момент, который я стараюсь объяснить студентам: нет “меня-исследователя” и нет “моих” исследовательских вопросов. Есть сообщество исследователей, которое строится вокруг некоторого спора, разговора, связанного с определенной проблемой. Нет “моей” проблемы у меня, меня вообще могло бы не существовать, но в мире есть разговор о чем-то, и есть некоторое множество людей, которые этот разговор прямо сейчас поддерживают. И есть уже умершие предшественники (вроде Ролана Барта), которые этот разговор начали в свое время.
Кулиничева: Крестик нарисуйте, Хэллоуин же скоро.
Титков: Да, сейчас. Вот лопата, которой его закопали (всеобщий смех).
Я как физическое тело тоже существую. Давайте я нарисую исследователя, пусть будет в платьице для гендерного равенства. Мой вопрос, чем я могу этих людей, которые уже разговаривают о моем предмете, удивить или разозлить.
Первая задача любого исследования, любого текста, любой статьи, которая появится ― чем-то удивить, а еще лучше, разозлить. Как это сделать? Прежде всего, представлять аудиторию, которой мое сообщение будет направлено. Статья или дипломный текст ― это такое же сообщение, как sms, только более развернутое. У них тоже есть адресат и есть конкретное сообщение, которое нужно передать. Как в телефоне выбираешь адрес конкретного человека, которому пишешь сообщение, так же и здесь нужно с точностью до имени, фамилии и электронного адреса представлять, кто эти люди, которые тебя прочитают.
Отсюда уже будет понятно, какая у вас должна быть теория, какие у вас должны быть методы. Теория должна быть плюс-минус такая же, как у вашу аудитории, методы - такие, которые они считают нормальными и допустимыми.
Моя специальность в университете ― география. Мы себя называли “полевой факультет” и отлично знали, что “поле” ― это когда в настоящем чистом поле ты копаешь шурфы для почвенного разреза, когда ночуешь в палатке в спальном мешке. Когда я в первый раз услышал от моих друзей политологов, что они едут “в поле” в соседний областной центр брать интервью у чиновников и депутатов, я сначала не мог понять, почему это называется “поле”. Такого удивления у ваших читателей быть не должно, “я” и “они” должны понимать поле и его методы одинаково, иначе бой.
Понятный вопрос ― зачем тогда поле, если главное это разговор. Затем, что в логике этого разговора принято, как в гости, приходить не просто с хорошими словами, но и с материальным подарком, которым ваша аудитория заинтересуется.
Точнее будет сравнить не с днем рождения друга, когда что бы ты ни принес, тебе все равно улыбнутся и скажут “спасибо”, а с ситуацией судебного спора. Есть обозначенный предмет спора, есть твоя позиция в этом споре и есть твое желание свою позицию отстоять. Другие участники хотят, чтобы правы оказались они, а не ты, и в каждом твоем материале, в каждом аргументе, ищут слабо место. Сложности такого разговора понятны, но есть и хорошая сторона, помогающая выжить в поле.
Есть старый вопрос, который задавал еще Томас Кун ― зачем люди занимаются наукой, в которой столько скучной рутины: мыть пробирки, сидеть в архивах, вести журнал наблюдений. Ответ Куна мы помним: ученым нравится разгадывать загадки. Сложность такого ответа в том, что в любой момент может появиться сомнение: те ли загадки мы разгадываем, стоит ли тратить жизнь именно о них. Знание, что другие люди спорят как раз о том, что тебя интересует, дает тебе подсказку: да, штука стоящая, ты не один и работаешь не только для себя. Сил и желания больше, когда складываются сразу два интереса: интерес решателя головоломок и интерес спорщика.
Хлевнюк: Я выступлю за человека, который максимально приземленно думает обо всем об этом. Я согласна с Лёшей [Титковым], что вопрос возникает из сообщества. Я занимаюсь исследованием коллективной памяти, поэтому мое сообщество называется Memory Studies Association. У нас есть свои журналы, свои конференции, список главных специалистов в разных странах. Мы все друг с другом общаемся, они милые и я не хочу их бесить, но мы с ними в разговоре и некоторый вопрос из этого появляется. Дальше, как уже упоминала Екатерина, есть некоторый формат― подумать, как исследование будет выглядеть и какими методами будут получаться данные.
У меня был большой проект про память о репрессиях в разных регионах России, и я занималась репрезентацией репрессий в музеях. У меня в методологической схеме, методологической секции и всех местах написано, что я прихожу в музей и смотрю, что там висит, а еще разговариваю с кураторами музеев, чтобы понять, почему они повесили то, что повесили. Как это выглядело? Много гигабайтов видеозаписей из музеев на моем телефоне и еще какое-то количество мегабайтов аудиозаписей интервью. И потом я это все закачала в программы и начала анализировать. Темы и дискурсы, все такое.
Один из сюжетов, который у меня, например, появился, был такой: несмотря на то, что советские репрессии затронули довольно большое количество разных слоев населения, были распространенными и спастись от них было практически невозможно, в музеях часто говорят о них как о политических репрессиях, 58 статья. И есть такая идеализация, особенно в Карелии и Магаданской области ― что, ну, конечно, жалко, что их всех репрессировали, ужас-ужас, но смотрите, они тут все построили, и мы тут живем благодаря им. Смотрите, тут до сих пор завод стоит, а тут канал прорыт. Ну, правда, он плохо работает. Ну, а шлюз видели, какой сделан? Есть героизация политических заключенных, которая сразу начинает немного корежить людей, привыкших к музеям Холокоста. Потому что в музеях Холокоста никто не будет обсуждать, какие хорошие дороги построили заключенные концлагерей.
Мы долго обсуждали с кураторами, почему они рассказывают про этих жертв, почему не про тех. Проблема заключается в том, что у них нет ответа.
Дальше я оказалась с этим вопросом в какой-то луже, потому что мои прекрасные данные в программе не сообщали мне, почему мои респонденты любят героизацию политических жертв.
И тогда выяснилось, что мне нужно заметить, что кроме моего поля, с которым я дружу, есть еще люди в другом поле. И это поле ― скорее, регионалисты. Они занимаются темой памяти о репрессиях с разных сторон. Есть литературоведы, которые читают воспоминания репрессированных и обнаруживают, что сами репрессированные, когда возвращаются и пишут воспоминания, то предпочитают писать о таких темах, как достоинство, гордость, о том, что они не просто пережили эти лагеря, а пережили их морально, возвышенно и не просто так. Они сами себя описывают не как жертв, которых жалеют и оплакивают, а, в том числе, как героев.

Я взяла из своей лужи это достижение literary studies и написала текст ― это упрощенная схема того, как устроена моя жизнь (всеобщий смех) ― про то, почему в российских музеях происходит героизация жертв. В этом тексте, действительно, довольно мало эмпирических результатов, потому что прописано, что нужно 8000 слов. Они там существуют вместе с теми кусочками пазла, которые я сама утащила из поля - чужими кусочки пазла, поэтому я на них ссылаюсь. Но для меня они оказываются, в общем, примерно равноценным материалом, хотя вот здесь, где я писала методологию, его не было. Потом я вкинула этот текст обратно в свое поле и считаю, что жизнь моя удалась.
Кравченко: Я, наверное, пытаюсь пройти условный путь, который прошли историки, потому что у меня есть две профессиональных ипостаси. Историческая, которая на уровне источников и поля связана с работой с архивными материалами, но не только. И ипостась публичного историка, который занимается изучением бытования прошлого в разных условиях, в современной России или близко к этому.
Эта схема похожа на базовое представление о том, как работает в поле исследователь. Особенно в начале XIX века. Никто бы даже ничего не стал дополнять. Постепенно стали возникать вопросы, но историки крепко держались за драгоценное спасение ― источник. Чтобы вырваться из этого плена относительности надо приникнуть к источникам. И действительно, сам образ источника, который до сих пор остается не только в русском языке, но и во многих европейских, как базовый, отсылает нас к бьющему из-под земли прекрасному ключу. Есть какая-то конъюнктура, она может на нас влиять, но мы будем обращаться к источнику. Уж он-то... Не то чтобы не соврет, но он именно про то, что для нас важно.
Я не буду перерисовывать, но переназову. Давайте представим, что это не продукты, которые производит исследователь, а то, к чему он устремлен ― люди прошлого, которые эти следы оставили. И тогда получается, что они у нас становятся тоже человечками.
Мы с коллегами оставили источник, а другому человеку придется на основе этого источника предлагать какую-то интерпретацию того, что здесь происходило. Но что если эти прекрасные источники вовсе не источники, а следы. Кто-то наследил и ушел. Потом еще, естественно, кто-то сюда заходил, стирал что-то и дорисовывал. Нужно будет попытаться это восстановить или понять, почему это возникло, и т.д.

Но чтобы увидеть следы, нужно надеть очки. Здесь появляется другая проблема, которая часто выглядит как конфликт, в том числе, дисциплинарный. Она возникает, когда кто-то надевает столько очков, что в принципе видит только определенные, например жирные следы, и отказывается о чем-то кроме них говорить. А кто-то, напротив, говорит ― не нужно нам ничего специального надевать, я буду в тех очках, которые у меня есть и буду описывать следы “как они есть”, и этого достаточно. Это вторая опасность, о которой внутри исторического цеха идет разговор. О ней обычно говорят: попал в плен к источнику. Это “ужасно, это недопустимо, так нельзя делать”! Потому что понятно, что это именно следы, а не “животворящий, бьющий откуда-то источник”.
Теперь о междисциплинарности, в которой, скажем, мои истории существуют, когда я занимаюсь исследованием публичной историей. Понятно, что картина усложнилась, возникла куча смежных полей, без рефлексии которых исследователь не может рассуждать об этих людях. Он должен подумать про контекст существования в обществе. Он должен подумать про то, как он говорит, не превращается ли его рассказ в анекдот или драматическую историю, которая работает по законам своего жанра. Он, по идее, еще и обязан подумать о том, кто эти следы отбирал, и как они оставлялись. Практика показывает, что критерии, по которым что-то откладывается, очень странные и не всегда рациональные, и, тем не менее, их стоит всегда учитывать.
Мне кажется, что междисциплинарность становится продуктивна для историка тогда, когда он делает, например, шаг вот отсюда ― к устным источникам. Тут он должен рефлексировать, думать о том, как, например, не научная, не академическая история (она, но не только она) функционирует в современном обществе. Ты можешь залипнуть в другом поле (не поле историка), но это остро необходимо. Ты должен подумать о том, что тебе рассказывают. И, наверное, здесь ты встретишься и с антропологами, и с фольклористами. Здесь присутствует много социологов, а я честно должен признаться, что социологов я побаиваюсь, потому что мне кажется, что они все время занимаются очками. Я думаю: “Ну, сейчас будет опять разговор про очки”.
Но оказалось, что есть социологи, с которыми мы легко находим общий язык.
Колозариди: Вы сначала уничтожили надежду, потом дали ее, а под конец снова возникли вопросы. Я могу соотнести мой опыт с вашим ― я всегда побаивалась историков и подозревала их в “очках”.
У меня есть другой вопрос: а поле никогда вам не давало сдачи? Оно не начинало вас пушить, толкать?
Кулиничева: Я поняла, что мне нужно дорисовать свою схему. Помимо очков, которые на нас надевает вот этот конгломерат, есть еще наши собственные когнитивные искажения, которые тоже могут очень сильно влиять на нашу методологию, и вообще на то, какие вопросы мы задаем и что хотим найти.
Если ты привык думать о Египте как о похоронной культуре, ты вполне можешь на него только так смотреть и искать только эти ответы. Хотя теперь мы много узнаем от египтологов не только об их погребальных обрядах, но и о повседневной жизни. То есть, это, видимо, не была культура, которая жила исключительно думами о вечности, как раньше принято было думать. Хотя в старых книгах по истории, например, архитектуры, можно встретить такое мнение.
Титков: У меня в самом начале, в первом же большом исследовании, получился совсем тяжелый случай, когда данные не просто “дали сдачу”, а буквально сбили с ног и оглушили, я не знал, что с ними делать. Это были не гопники в подворотне, просто опубликованные документы в библиотеке.
Работа была по географии выборов в дореволюционной России. Электоральные географы в то время хорошо понимали, в чем задача: надо найти преемственность от выборов к выборам, найти устойчивость, реконструировать политико-культурные традиции, найти их причины. Мои данные мне сказали: “Нетушки! Ничего такого мы тебе не покажем”. Нет никакой преемственности. Там, где сейчас “красные”, девяносто лет назад были “белые”, и наоборот. И потом еще долгих, не пугайтесь, пятнадцать лет мне пришлось искать подходящие слова, чтобы назвать и объяснить мой случай. Пока искал, заносило в самые неожиданные стороны. Пришлось идти и в политическую социологию, и в теорию нарративов Поля Рикёра, и сомневаться в самых базовых географических понятиях (например, понятии района), на которых вырос.
Хлевнюк: Я бы не считала, что они тебе дали сдачи, твои данные. Негативный результат, по-моему, самый прекрасный результат. Ты приходишь с гипотезой, она опровергается. Ты думаешь ― ешки-матрешки, что же происходит тогда.
Кулиничева: Да, это результат. Я бы даже не сказала, что он негативный. Точно не в оценочном смысле этого слова. Негативный результат для меня – когда ты хочешь найти ответ на вопрос, провести эксперимент, сделать золото из земли. И у тебя не получается. А когда гипотеза не подтвердилась― это положительный результат, ну, во всяком случае, он есть. Просто надо найти другую гипотезу, которая объяснит, что же там происходит.
Колозариди: Кажется, терапевтическая функция нашего мероприятия начинает удаваться.
Кравченко: Я хочу про «давать сдачи» сказать. Есть такая идея, что ты приходишь со своими вопросами к следам или источникам, и понимаешь, что надо менять вопросы. И возвращаешься думать. Сидишь, думаешь, общаешься с сообществом и опять возвращаешься. По идее, ты опять видишь, что надо менять вопросы. И это никогда не заканчивается, пока ты не скажешь себе «стоп», я должен породить баббл. То есть, что-то произвести.
У меня все истории про поле и какие-то неожиданные столкновения в нем, (и при работе в архиве, и при работе с интервью), скорее, прекрасные какие-то. Например, когда я в ГАРФе, совершенно не имея этого в виду, смотрел всякие педагогические дискуссии 20-х годов и вдруг обнаружил несколько громадных, вшитых в дело стенгазет, которые абсолютно непонятно, почему там очутились. Их там не должно было быть, они не откладываются в этом месте. Почему их кто-то вшил, а не выкинул ― непонятно. И для меня это стало таким важным толчком ― я начал думать про подростковую и детскую стенную печать этого периода. Опять же, сложно думать, потому что следов мало. Но если бы я не наткнулся, то не начал бы думать.
Или я в одном из региональных городов разговаривал тоже про экспозиции, связанные со Сталиным и предреволюционной эпохой. И тут выяснилось, что люди в небольшом региональном городе ― Даша вот может быть знает ― в 2009 году написали сценарий, позвали актеров и делали такой, на стыке театральной постановки и капустника, спектакль про Сталина, который остался в видеозаписи, в расшифровках. Это для меня было абсолютнейшим шоком. Во-первых, потому что это возможно, во-вторых, из-за того, что это не вызвало никакого скандала в местном пространстве. Абсолютно спокойно выходили про это сюжеты по телевизору. А там была такая сатира, такой практически русский вариант «Смерти Сталина». И после этого я понял, что мне не так интересно заниматься экспозицией, а стал просить у него видео и расшифровку. Я такого представить не мог, оно как-то само появилось.
Колозариди: Интересно, когда я продумывала этот вопрос, отпор поля, я думала про другой ракурс. Про поле, которое почти говорит тебе само: “Я задаюсь теми же вопросами и отвечаю на них лучше. Зачем ты вообще нужна?”. Мне всегда казалось, и до сих пор кажется, что это такое свойство междисциплинарных проектов.
Кулиничева: Мне кажется, это вопрос о том, как мы понимаем междисциплинарность. С одной стороны, мы можем говорить о некотором сообществе людей ― вот мы делаем проект, и у нас есть историк, социолог, антрополог, искусствовед. А можем по-другому. У Эрнста Гомбриха есть прекрасная метафора, которая появляется в предисловии к одному из его сборников. Он написал, что история искусства – это такое поле, которое как Галлия Юлия Цезаря населена тремя племенами, не всегда дружелюбно относящимися друг к другу. В истории искусства, в истории моды это как раз очень хорошо видно. Он говорил, что три племени ― это академические историки, знатоки-коллекционеры (коносье) и арт-критики. В случае с модой я бы добавила еще как минимум пиарщиков и маркетологов. Мне кажется, междисциплинарность ― это может быть и про это тоже. Мне кажется, эту метафору, Полина, можно взять тебе, и у тебя будут, соответственно, академические исследователи, кибернетики, практики и так далее. Интересно, как взаимодействуют эти агенты между собой, потому что предмет у них один.
Титков: Как выглядит междисциплинарность? Если есть общая коммуникация, общие очевидности и общие проблемности, это никакая не междисциплинарность. Помните цитату из школьного кино: «Счастье ― это когда тебя понимают»? Междисциплинарность ― это когда тебя не понимают. Это реальность непонимания, которая дает сдачи, даже когда ты этого не желаешь.
В чем может быть ее польза, тоже пример из моего опыта. Приезжаю на междициплинарную конференцию ― политологи, социологи, антропологи, историки - с рассказом о небольшом полевом исследовании. В мае 2012 года в Москве был протестный лагерь #оккупайАбай, я туда приходил и спрашивал участников, как и в каких ситуациях они носят или снимают белые ленты, символ протестующих. Получился хороший случай по социологии или антропологии повседневности, именно его я рассказываю. Доклад, вопросы, и коллега меня переспрашивает, почему к лету 2012 года белые ленты практически перестали носить.
За те секунды, пока открываю рот, чтобы ответить, в голове мелькает: коллега, которую я хорошо знаю, из political science. В ней все построено на четкой базовой идее, что есть рациональные акторы со стратегиями, целями и ресурсами, есть институты, которые они создают или оспаривают, и нормальный ответ должен быть сведен именно к этой реальности. У меня ответ совсем другой и, получается, ненормальный. Пришлось начинать ответ с говорок: понимаете, в социологии повседневности логика совсем другая и объяснения тоже другие. В ней нормально делать акцент на том, что люди ложаться спать на ночь и снимают одежду, а утром надевают уже другую, что ленточки пачкаются и рвутся. “Простите, у нас такая наука, мы так думаем”. Сложности, которые заставляют задуматься, чем ты занимаешься, как и зачем. В разговоре со “своими” не возникло бы ни таких сложностей, ни таких мыслей.
ВОПРОСЫ ИЗ ЗАЛА
Маша: Как вы избавляетесь от своих повседневных предрассудков и как вы их используете?
Титков: А для чего от них избавляться?
Кулиничева: Чтобы они не влияли на вопросы и ответы, которые вы находите.
Маша: Чтобы они не влияли на то, что вы описываете в своем полевом дневнике. И вообще, есть ли такая проблема, и если есть, то как она решается?
Кравченко: У меня ответ из двух частей. Во-первых, конечно, у меня нет идеи, что я могу очистить себя, сделать идеально рациональным актором, который не через очки, а через настоящие зрачки смотрит на людей или документы и видит то, что там находится. Скорее, эта часть работы для меня ― рефлексия моего места, моих особенностей, причин моего интереса, моей позиции в отношении с говорящим или даже с текстом, потому что тут всегда есть о чем подумать.
Второй компонент ― и он всегда лучше работает при физическом разговоре с кем-нибудь, чем при работе с документами, но и там он тоже уместен ― поскольку я не работаю количественным методом практически, я пытаюсь не осуждать человека, что бы он ни делал, и относиться к нему максимально внимательно. Включаю эмпатию, насколько могу. Для меня это важно с этической точки зрения.
Хлевнюк: У нас, как у всех полевиков, бывают такие ситуации. Если человек просит тебя что-то не писать, то ты это не пишешь. Это понятный внятный процесс. Если делать исследования с людьми, у которых другой жизненный опыт, другой уровень образования и прочее, они иногда говорят вам вещи, которые они не должны были бы говорить, которые не стоит цитировать. Когда я изучаю малые города, кусочки информации, которые можно там выделить, знает один человек. Поэтому если я где-то расскажу это даже анонимно, то весь тот город будет, естественно, знать, кто это рассказал, потому что эта информация доступна ограниченному кругу людей.
Вопрос из зала: Насколько будет актуальна эта информация и в каком случае исследователь может сохранить ее, чтобы через 30 лет издать книжку? Это будет этично или неэтично?
Кравченко: У меня есть очень важная ремарка. Если я ее сегодня не произнесу, то буду чувствовать себя “расстригой”. Это ремарка, касающаяся как раз «сколько времени хранить и не говорить о человеке». Когда я оказываюсь в поле в смысле общения с физическими живыми людьми, я совершенно согласен и понимаю то, что Даша [Хлевнюк] сказала. О том, что иногда стоит подумать, чтобы не навредить человеку. Это особенно легко, когда физически его видишь. Знаешь, что он существует. Но другая часть моей активности связана с архивными документами, в том числе достаточно ранними, 20-х-30-х годов. И там я постоянно имею дело с абсолютно стихийным, бессмысленным засекречиванием документов по закону о персональных данных , и потому что секретят еще даже, что было засекречено в 20-е годы при отправке в архиве. Все знают, что там написано, но формально это лежит засекреченным. Это тоже часть проблемы. Просто мы сейчас в двух частях спектра побывали, а где-то есть середина.
Хлевнюк: Я думаю, что безопасно это тогда, когда либо больше нет в живых тех людей, которых мы оберегаем, либо нет системы, от которой мы их оберегаем. Видимо, тогда можно что-то делать.
С другой стороны, возвращаясь к вопросу о данных. Я не знаю, у кого какой отвал в данных ― у меня 70% данных уходят куда-то, и только 30% реально потом появляются в тексте. Я боюсь, что к этому нужно вот так философски относится ― то, что засекречено, тоже уходит туда же, в отвал, и с этим придется жить.
Колозариди: Помимо клетки и качков, у нас может еще появится идея фильтра, как он составлен.
Кулиничева: Мне кажется, он есть. Сейчас усиливается такая тенденция: если ты работаешь с живыми людьми и, например, подаешь на грант, ты должен сначала получить одобрение этического комитета на свое еще не проведенное исследование. Но у нас пока в меньшей степени у университетов есть специальные этические комитеты, а вот в Европе и Америке это, по-моему, повсеместно. Ты сначала им подаешь то, что хочешь делать с этими людьми. И они решают. И у них тоже ведь есть этот bias, как они принимают решения. Мы понимаем, что какие-то вещи, которые 20 лет назад были бы посчитаны вполне этичными, сегодня уже такими не будут.
Полина: Еще через некоторое время снова всё может измениться. Мы можем подумать о тех, кто придет после нас. Мы вот тут изобразили тех, кто был до, и мы их включаем в это воображаемое сообщество. Но отдельный интерес и задача ― подумать о том, как мы соотносимся с теми, кто будет после нас, насколько они часть вот этого всего, или вот эти люди, которые в платьях все.
Кулиничева: Нет, один с ножками! (смех)
Полина: Я могу заметить, что в интернет-исследованиях это очень живой вопрос, потому что когда мы наблюдаем то, что люди обсуждают в интернете, мы не знаем, являемся ли мы наблюдателями живого процесса или архива. Этот вопрос всегда решается ad hoc. Мы должны принять волевое решение, что это такое. Интернет-исследователи против конкретных кодексов. Мы стараемся идти по гайдлайнам. Это большой список разных вопросов, которые ты задаешь самому себе: кто будет читать это исследование? кто может быть его бенефициаром? кто может от него пострадать? как в нем устроено то, то и то?
Ответ на вопрос ― это архив и уже с ним можно что-то делать, то, что нельзя было бы сделать с интервью ― могу на него ответить. Но даже если мы ответим на него утвердительно, то в какой-то момент может возникнуть то, о чем говорила Даша. Через 30 лет придут дети или внуки этих людей и скажут ― мы прочитали все ваши статьи и хотим вернуть свою правду. Понятно, что роль исследователя в этом процессе, очевидно, не главная.
Но она существует. Иногда динозавры изобретают своих исследователей, а иногда изобретенные исследователями динозавры дают отпор.
Какие-то тактические решения, я думаю, во всех полях существуют, но окончательного, мне кажется, нет.
Спасибо всем большое.
Я не уверена, ответит ли эта схема на вопросы всех будущих исследований, но в качестве объекта для изучения мы с вами, друзья, все вместе вполне хороши.

